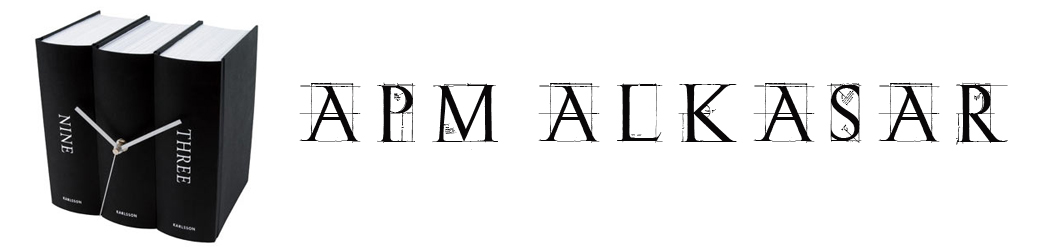
Рефераты по авиации и космонавтике
Рефераты по административному праву
Рефераты по безопасности жизнедеятельности
Рефераты по арбитражному процессу
Рефераты по архитектуре
Рефераты по астрономии
Рефераты по банковскому делу
Рефераты по биржевому делу
Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Рефераты по валютным отношениям
Рефераты по ветеринарии
Рефераты для военной кафедры
Рефераты по географии
Рефераты по геодезии
Рефераты по геологии
Рефераты по геополитике
Рефераты по государству и праву
Рефераты по гражданскому праву и процессу
Рефераты по делопроизводству
Рефераты по кредитованию
Рефераты по естествознанию
Рефераты по истории техники
Рефераты по журналистике
Рефераты по зоологии
Рефераты по инвестициям
Рефераты по информатике
Исторические личности
Рефераты по кибернетике
Рефераты по коммуникации и связи
Рефераты по косметологии
Рефераты по криминалистике
Рефераты по науке и технике
Рефераты по кулинарии
Рефераты по культурологии
Рефераты по зарубежной литературе
Рефераты по логике
Рефераты по логистике
Рефераты по маркетингу
Курсовая работа: История как искусство членораздельности
Курсовая работа: История как искусство членораздельности
Илья Калинин
...когда режут ногу, нужно разрезать мускулы,
оттянуть мясо манжетой и подпилить кость.
Иначе кость потом прорывает культю.
Если вам не нравится описание, то — не воюйте...
В.Б. Шкловский. Сентиментальное путешествие (1923 г.) 1
Ведь смерть, в каком бы облачении не являлась она, приходит туда куда посылает ее История.
Б. Эйхенбаум «Миг сознания» (1921) 1а
Вопрос об актуальности формальной школы для современной филологической практики связан не только, точнее, даже не столько с каталогизированием или даже с ревизией их научного наследия. Проблема действительно содержательной рецепции заключается в необходимости такого историзирующего чтения, которое бы включало формальную теорию в кон-текст истории самих формалистов и в контекст тех «вымышленных» историй, в которых отрабатывался их исторический опыт, иными словами, в контекст их литературной практики (пока наиболее интересными примерами интерпретации являются попытки прочитать их фикциональные тексты сквозь их же теоретические концепты, находя в последних необходимый декодирующий контекст 2). Актуальность формалистов носит латентный характер: мы как бы поверили формалистам на слово в их заверениях относительно их филологического спецификаторства, относительно границ их дисциплинарных притязаний (поверили, в отличие от власти, которую они хотели в этом убедить). При этом оказалась рассеченной та конструкция, которая возникала благодаря взаимодействию между литературным и металитературным рядами формализма и обеспечивала постоянный обмен между теорией и историей, между теоретическими моделями и их историческим и фикциональным остранением 3. В результате формалистский «Gesamtkunstwerk» оказался фрагментирован на теоретические работы, автобиографическую прозу Шкловского, историческую прозу Тынянова, так и не опубликованный дневник Эйхенбаума, их переписку и т.д., и т.д., и т.д.
Формалисты, по типу сознания принадлежа к эпохе исторического авангарда, не просто обладали неким гиперисторическим темпераментом (как написал Шкловский в одном из своих писем Эйхенбауму: «Я не литературовед, я человек судьбы»4), но и сублимировали собственную одержимость историей в метаисторическую рефлексию — отсюда и невероятное внимание и чувствительность к ритму истории и к биографии (и жанру автобиографии) как к способу адаптации к этому ритму. Более того, попытка формалистов построить теоретическую поэтику и теоретическую же модель истории также была непосредственно связана с собственным историческим/биографическим контекстом и с характером реакции на него. Возможно, самое интересное в формализме — его связанность с исторической сценой, т.е. то, что традиционно остается за рамками истории науки, и как раз то, что в принципе принадлежит не истории науки, а науке как таковой. Особенно науке в эпоху социального подъема, что, безусловно, относится к случаю русского формализма 5. И если ранний формализм совпадал с вектором этого подъема («…какой-то исторический Гольфстрим обтекал нас, согревая и вдохновляя», — писал об этом времени Эйхенбаум 6), то начиная с середины 1920-х годов формализм перестает быть современным социальному мэйнстриму, реализуя близкую себе кракауэровскую идею истории как множества несинхронных рядов, причем реализуя ее в эпоху, все менее склонную к проявлениям исторической нетождественности.
В дальнейшем речь пойдет не об истории русского формализма, а об историческом опыте формалистов, который в разные периоды советской истории носил как активный, так и пассивный, я бы даже сказал, страдательный характер. Как мне кажется, кризис гуманитарных наук, о котором постоянно говорилось на протяжении 1990-х и о котором уже не интересно продолжать говорить, заключается не в отсутствии «сильных» теоретических парадигм, не в недостатке теории, а в недостатке истории, в самой ситуации общего социального спада, когда наука перестает испытывать травматичное давление социальных рядов и добивается искомой автономии, на деле оказывающейся эвфемизмом периферии: от науки (прежде всего гуманитарной) уже ничего не требуют, но уже ничего и не ждут. Кстати, Шкловский в своей книге «Третья фабрика» 1926 года уже описал ситуацию, когда творческое остранение подменяется непродуктивной эклектикой и цитатностью. В каком-то смысле последние годы напоминают вторую половину 1920-х 7, о которых тот же Шкловский писал: «Живу тускло, как в презервативе» 8.
Специфика советского опыта (особенно в том случае, когда этот опыт оказывается опытом ученого) заключалась в том, что ставкой в интеллектуальном проекте в конечном итоге всегда оказывалось собственное тело интеллектуала. Для историка (в том числе, естественно, для историка литературы) опыт такого исторического давления может быть сублимирован в понимание неустранимости собственного взгляда из «реставрируемой» исторической конструкции. Иными словами, претерпеваемые историком деформации лишают его иллюзии объективности производимой им самим исторической работы (даже если она носит индуктивный характер). Оказавшись в этой исторической ситуации, формалисты сделали свою ставку, понесли свои биографические потери и произвели свои теоретические прорывы.
Формалисты создавали свою теоретическую поэтику, сознательно и активно инкорпорируя в концептуализируемое ими литературное поле фигуру наблюдателя, вписывая в историю литературы собственный исторический опыт (открыто в своей прозе, скрыто в своих научных работах), и таким образом, не противопоставляли не только теорию и историю литературы, но и эти последние — своей собственной истории. Дискуссии, ведущиеся в 1990-е годы (в отечественной гуманитарной среде), можно свести к спору между «филологами» (читай, историками литературы) и «философами» (филологами с обостренным чувством некой теоретической невменяемости собственной дисциплины), филологами «чистыми» и «не-чистыми» (С. Козлов 9), комментаторами и интерпретаторами. И так или иначе все эти споры сводятся к проблеме необходимости или, наоборот, невозможности исторического описания, стремящегося в идеале к абсолютно прозрачной репрезентации, которая бы не деформировала «целостность» исторического материала. Первые видят в подлинно историческом методе способ редукции исторической дистанции и устранения фигуры самого историка, вторые через процедуры интерпретации актуализируют (независимо от собственного желания) и первое и второе и, соответственно, сталкиваются с необходимостью теоретической легитимации своих описаний. Урок, который можно извлечь из опыта русского формализма, заключается в том, что им удавалось извлекать эффект из постоянного пересечения взглядов sub specie истории и теории: исторические описания отдавали отчет в своем теоретическом нецеломудрии, а теоретические конструкции подвергались историзации, включались в историческую и биографическую прозу, в которой оказывались не только моделью описания, но и объектом остранения.
Действительно актуальный опыт, который оставили нам формалисты, связан с некой одновременностью и взаимообратимостью их экзистенциального, телесного и рефлексивного опыта: опыта взаимоотношения человека и истории, которой он окружен: истории, которая является результатом его трансцендирующих усилий (т.е. теоретическая модель истории), истории, которую пишет он сам (будь это история литературы или собственная автобиография), и истории, которая сама пишет, деформирует человека, оставляя печать на теле историка. Этот момент деформации стал для формалистов определенной точкой фиксации. Они и концептуализировали его в качестве конструктивного принципа искусства, литературного текста и истории литературы; и тематизировали его в своей прозе через мотивы разрушения композиционного единства и фрагментации текста; и, что, возможно, самое интересное, они аллегоризировали этот момент деформации в описаниях телесного расчленения и распада, наделяя, таким образом, теоретический концепт некой телесной — исторической и даже биографической — референцией. Мое внимание будет сфокусировано на эффектах взаимного остранения, возникающих благодаря столкновению метатекстуальной метафоры декомпозиции текста, обнажающей динамическую конструкцию текста как такового, и анатомических мотивов расчленения человеческого тела, демонстрирующих работу истории, прикладываемую к человеку. Эти эффекты взаимного остранения имеют не-посредственное отношение к сфере политического, широко понимаемого как проработка (в психоаналитических терминах) или как сублимация (в терминах гегельянских, что в общем не противоречит друг другу) экстремального исторического опыта 1910—1920-х годов, связанного с войной, революцией, построением нового общества и нового человека. С одной стороны, так понимаемая политическая составляющая «анатомических» мотивов интерпретируется как реакция на уже апроприированный исторический опыт и как историческая антиципация грядущего опыта репрессий. С другой, этот отложившийся в образы телесного расчленения исторический опыт оказывается как бы по ту сторону метафоры, во-первых, обнажая анатомическое насилие аналитических процедур как таковых, а во-вторых, что более важно, демистифицируя иллюзию исторической реконструкции как возвращения к аутентичному истоку. Телесный опыт оказывается своеобразной пластической моделью для построения теоретических концептов 10, более того, этот опыт, вписанный в историческую и автобиографическую прозу формалистов, фиксирует новый уровень рефлексии по отношению к самой формальной теории 11. В этом смысле уникальность их прозы заключалась в том, что она была не просто метафикциональной, включающей в себя некий теоретический метауровень по отношению к фиктивности литературы, но и метатеоретической, занимающей рефлексивную метапозицию по отношению к самой формальной теории.
Столкновение, борьба, конфликт, «сочетание несочетаемого» характеризуют, с точки зрения формалистов, все уровни как семантики литературного произведения, так и динамики литературного поля в целом. Центральные теоретические концепты формализма — «остранение», «обнажение приема», «пародийность», «невязка элементов внутри целого» (Тынянов) — по-разному описывали динамическую природу искусства. Причем характерно, что сам динамический принцип трактовался в терминах деформации, как нарушение внутреннего равновесия элементов, точнее, как разрушение иллюзии этого равновесия. «Форма литературного произведения должна быть осознана как динамическая. Динамизм этот сказывается... в понятии конструктивного принципа. Не все факторы слова равно-ценны... При этом выдвинутый фактор деформирует подчиненные»12.
Этот теоретический акцент на моменте деформации, конститутивном для литературы, воспроизводится в постоянно используемом в собственной литературной практике формалистов приеме декомпозиции, расчленения «органической» природы произведения для демонстрации его изначальной «сделанности». «Я должен был дать мотивировку появлению не связанных между собой отрывков... и когда я положил куски уже готовой книги на пол и сел сам на паркет и начал склеивать книгу, то получилась другая, не та книга, которую я делал», — писал Шкловский, обнажая прием создания своего романа «ZOO»13.
«Осознание формы путем нарушения ее и составляет содержание романа» — так описал Шкловский основной конструктивный принцип романа, который выступал у него (как и у Бахтина) синонимом, pars pro toto литературы 14. Согласно этому утверждению, наилучшим способом демонстрации формы является ее сознательное разрушение, конструкция становится видимой и познаваемой в тот момент, когда устраняется иллюзия органичности и естественности формы, когда ее целостность и полнота подвергаются деформации 15. Автореферентность и авторефлексивность литературы, т.е. то, что формалисты называли «литературностью» литературы, реализуются через механизмы отрицания, причем гегельянская модель подвергается здесь своеобразной модификации, смысл которой можно сформулировать следующим образом: здесь не «форма, подвергнувшись снятию, становится содержательной», а скорее — «форма, подвергнувшись разрушению, становится видимой»16.
Формалисты связывали функцию искусства (и прежде всего словесного) с разрушением автоматизированных привычек восприятия и интерпретации, выработанных повседневностью 17. В этом смысле механизмы литературы и истории, связанной у формалистов с опытом революции, оказывались изоморфны друг другу. Формалисты переживали историю как столкновение с силой, способной перехватить у литературы инициативу по остранению привычного рецептивного контекста. Если в пространстве литературы средством остранения было обнажение и обновление стершегося приема, то в пространстве истории и биографии остранение заявляло о себе через некое экзистенциальное потрясение. Когда Шкловский писал в своем манифесте «Искусство как прием» о том, что «автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену, страх войны»18, — то в качестве способа воскрешения рецептивной остроты он видел некий эксцесс: исчезновение быта как такового, супружескую измену или эмоциональный шок от увиденного на войне 19. В результате, история и литература (и, надо добавить, теоретическая поэтика) помещались формалистами в такую оптическую систему, в которой они подвергались искажающим эффектам взаимного отражения: опыт чтения и опыт проживания накладывались друг на друга, более того, опыт такого наложения и был собственно историческим опытом, опытом восприятия истории.
«Искусство в основе иронично и разрушительно. Оно оживляет мир», — писал Шкловский в «Сентиментальном путешествии» (1923) 20, построенном одновременно как непосредственная фиксация опыта революции и Гражданской войны и как рефлексия над этим опытом. Меня интересует в этой фразе симптоматичное сближение/столкновение иронии, разрушения и витализации мира. Между разрушением и оживлением возникает чрезвычайно характерный для поэтики формалистов парадокс: именно деформация, «невязка элементов внутри системы» (Тынянов), расчленение целого и перераспределение его частей делают это целое живым. Парадоксальную «невязку» разрушения и оживления опосредует третий элемент этой констелляции — ирония. Фигура иронии и развертывающие ее механизмы пародии (понимаемой не в узком значении литературного жанра, а в том значении исторического модуса par excellence, которое вкладывали в нее Ницше, Беньямин, де Ман и Тынянов) реализуются в таком чтении и письме, которые одновременно разрушают и воспроизводят разрушаемые тексты. «Ирония в жизни, как красноречие в истории литературы, может все связывать», — писал Шкловский в том же «Сентиментальном путешествии»21. Ирония становится для формалистов универсальным механизмом художественной мотивировки, монтажа разнородного материала, перенесения элементов из теоретического ряда в фикциональный (литературный), из исторического ряда в биографический, и наоборот. Экономику пародии и истории можно описать как разрушение и повторное использование, утилизацию старого: старое фрагментируется и вновь используется как материал для фигурации нового. Этот механизм истории, утилизирующий и деканонизирующий старое, обнажается в описании разгрома, которому подвергся один из великокняжеских дворцов после октябрьского переворота: «Но больше было не грабежа, а обычного желания войска, занявшего неприятельский город и стоящего по квартирам, по-своему использовать брошенное добро: забить разбитое окно хорошим ковром и растопить печку стулом» 22.
Фрагментация становится не только композиционным приемом, выявляющим «сделанность» литературного текста, — фрагментарность оказывается имманентной человеческому опыту и даже более того — данной этому опыту реальности. Таким довольно странным образом принцип фрагментарности онтологизируется, но при этом сама онтология историзируется, лишается устойчивости и становится проблемой репрезентации. «И вот я не умею ни слить, ни связать (выделено мной. — И.К.) все то странное, что я видел в России... Жизнь течет обрывистыми кусками, принадлежащими разным системам. Один только наш костюм, не тело (выделено мной. — И.К.), соединяет разрозненные миги жизни»23. «Остранение», о необходимости которого так много говорил Шкловский в 1917 году 24, в начале 1920-х осознается как эффект самой истории, более того, его интенсивность достигает таких пределов, что отвергает возможность какой-либо исторической и биографической континуализации. Надежду на некоторую нарративизацию собственной жизни, на обретение некоего биографического «я» (или хотя бы его иллюзии) дает метафорический обмен между текстом и телом (причем это не устойчивая метафорическая эквивалентность, а динамический обмен): «И вся моя жизнь из кусков, связанных одними моими привычками» или «Но и моя жизнь соединена своим безумием, я не знаю только имени»25. «Привычка»26, «безумие», «имя» (в другом месте — «сон»27), в силу своего дискурсивного, артикулированного, в той или иной степени упорядоченного характера, становятся той текстуальной тканью, которая способна стянуть расползающиеся «куски» исторического опыта человека, противостоять процессу распада и фрагментации.
Текст и тело описываются в прозе Шкловского как системы, постоянно обменивающиеся друг с другом центростремительными и центробежными ресурсами: с одной стороны, прием декомпозиции обнажает конструкцию текста и отражает фрагментарную структуру человеческого опыта, погруженного в историю; более того, совершаемая над телом работа истории описывается как работа текстов над телом (как текстуализация тела, которая и инициирует его фрагментацию). Однако, с другой стороны, текст возвращает телу его утраченное единство, но уже не в статусе органического, а в качестве определенной исторической конструкции. Шкловский так описывает свой конспиративный опыт во время Гражданской войны (т.е. опыт, связанный с распадом «я», с утратой его целостности, с обретением двойника): «Хорошо потерять себя. Забыть свою фамилию, выпасть из своих привычек. Придумать какого-нибудь человека и считать себя им. Если бы не письменный стол, не работа, я никогда не стал бы снова Виктором Шкловским. Писал книгу “Сюжет как явление стиля”» 28. Здесь приобщение к истории (и к социальной активности) связывается с отказом от идентичности собственного «я», — от имени и привычек, т.е. от того, что уже схвачено текстуально и отчуждено в «человеческий документ». Текстуализация телесных практик является ответственной за поддержание единства человеческой субъективности, но одновременно запускает механизм отчуждения, логика которого требует перманентного отрицания уже отчужденных от «природы» человека текстуальных эффектов его историчности — собственно эта негативная диалектика «утраты себя» и подключает человека к истории. Однако если включение человека в пространство символических замещений означает постоянную и травматичную трансгрессию и перераспредение границ его субъективности, то стремление каким-то образом удержать от снятия последний рубеж идентичности, ассоциируемый Шкловским с творческой способностью субъекта, реализуется в попытках взять под контроль непредсказуемое поле текстуальности. «Письменный стол», работа над книгой возвращают утраченную в потоке истории если не саму биографическую идентичность, то, по крайней мере, идентичность собственного имени (единственной устойчивой референцией имени Виктор Шкловский остается метонимическая связь между ним и подписанными этим именем работами, в остальном оно характеризуется почти абсолютной валентностью к любым предикатам: инструктор броневого дивизиона, организатор ОПОЯЗа, комиссар армии, член подпольной боевой организации эсеров, эмигрант и т.д., и т.д., и т.д.) 29. Работа над книгой становится упорядочивающим дискурсивным жестом, ответом на взбесившуюся дискурсивность истории, которая в своем остраняющем пафосе грозит исчезновением самому контексту, самому фону для остранения 30. Установив зависимость между идентичностью субъекта, его деформациями, историей и текстопроизводством (которое оказывается последовательным процессом фиксации идентичности, ее отрицанием и фиксацией этого отрицания), Шкловский еще раз прокручивает эту зависимость, возвращая ее в непосредственный фикциональный контекст своего биографического нарратива: «Писал книгу “Сюжет как явление стиля”. Книги, нужные для цитат, привез, расшив их на отдельные листы, отдельными клочками» 31. Некоему потенциальному единству будущей книги предшествует творческая воля, раскрывающаяся в акте насилия над текстами, в их фрагментации, в разрывании на клочки и цитаты 32. Ирония в очередной раз связывает два пересекающихся, но разнонаправленных ряда: деформацию субъективности, «утрату себя», связанные с работой истории и с текстуализацией собственного тела, и деформацию текстов, связанную с восстановлением утраченного контроля над субъективностью, достигаемым через работу над собственным текстом, в данном случае — через работу над книгой по истории литературы.
В романе, играющем с эпистолярными конвенциями, — «ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза» 33 — кризис субъективности осложняется двумя новыми обстоятельствами: ситуацией эмиграции (которая географически объективирует историческую диалектику отчуждения 34) и проблематикой Другого, адресата писем, возлюбленной, потребность в коммуникации с которой и инициирует возникновение переписки, а ее (возлюбленной) запрет писать о любви определяет специфику метафорического ряда этих «писем не о любви»35. В этом романе интересующая нас проблематика деформации и распада субъективности артикулируется не-посредственно через образность телесного расчленения. Связь между телом автора и его письмами устанавливается благодаря челночному движению метафоры (от олицетворения к овеществлению и обратно): «Я пишу тебе каждую ночь, рву потом и бросаю в корзину. Письма оживают, срастаются, и я их снова пишу. <...> Только я, разорванный, как письмо, все вылезаю из корзинки для твоих сломанных игрушек. Я переживу еще десяток твоих увлечений, днем ты разрываешь меня, а ночью я оживаю, как письма»36. Автор рвет свои письма, а его адресат «разрывает» его самого 37, однако и автор и его тексты, будучи фрагментированы и расчленены, обладают способностью к регенерации, и вновь оживление, деавтоматизация оказываются результатом деформации.
* * *
Теперь непосредственно к тому, что я назвал «искусством членораздельности», то есть к демонстрации той работы, которую история совершает над телом и в процессе которой тело становится зримым и обретает значение, приобретает артикулируемость, членораздельность. Вообще анатомическая образность сцен телесного расчленения (как вариант — хирургическое вторжение в тело) организуется в одну из ключевых метафор идеологии, связанной с просвещенческой моделью секулярных процедур познания 38.
Наблюдение за практикой анатомирования входит в ранний биографический опыт Б.М. Эйхенбаума во время его учебы в Военно-медицинской академии, отразившийся уже в его письмах к родителям: «Вчера был в первый раз в анатомическом отделении, смотрел, как студенты там работают. Целых трупов не было, были части, и не могу сказать, чтобы мне было особенно неприятно. <…> Самое неприятное впечатление производит, конечно, голова»39. В первой же своей монографии Эйхенбаум обнажает некую технологическую связь между аналитическими и анатомическими практиками, но при этом отрицает бессознательные коннотации с мотива-ми убийства и смерти, автоматически возникающие при разговоре в терминах анатомирования. Более того, Эйхенбаум указывает на непродуктивность самой оппозиции: «живое»/«мертвое» применительно к произведению словесного искусства (и вообще к любому произведению искусства), реальность которого в любом случае принадлежит к прошлому. «Считалось, что изучать самое произведение значит анатомировать его, а для этого надо, как известно, сначала убить живое существо… Прошлое, как бы оно ни возрождалось, есть уже мертвое, убитое самим временем»40. Однако из этого полемического по отношению к традиционной литературной критики высказывания видно, что в действительности Эйхенбаум отказывается только от самого противопоставления «живого» и «мертвого», продолжая использовать все тот же органицистский язык, и лишь смещает акцент на второй элемент противопоставления. Эйхенбаум отводит от формальной школы обвинения в умерщвлении «живой плоти» произведения, утверждая, что эта процедура уже произведена самим временем. Иными словами, логика исторического движения такова, что она освобождает ученого от необходимости вторгаться в литературное произведение как в живое тело. Благодаря исторической дистанции происходит перевод «живого» в «мертвое» 41, и хотя на уровне деклараций формалисты (особенно в случае Шкловского) предпочитали механицистские метафоры — на уровне постоянных сознательных или бессознательных оговорок, фиксации на определенного типа примерах, повторения в собственной прозе определенного типа образов и т.д., — за «механической» поверхностью формалистских концептов становится видно их «органическое происхождение», становится видно, что за представлением о конструкции стоит представление о мертвом теле. Парадоксально, но как раз аналитическое вторжение в так понимаемую конструкцию текста и является, с точки зрения формалистов, способом «возрождения прошлого» (Эйхенбаум) или «воскрешения слова» (Шкловский). И моделью такого витализирующего вторжения, возвращающего тексту его заезженную историей конструкцию, становится скорее не просвещенческая практика анатомирования, а позитивистская практика жестокой, но действенной, военно-полевой боткинской хирургии. Которая попадает в поле психологического, художественного и аналитического интересов Толстого в «Севастопольских рассказах» и Эйхенбаума в «Молодом Толстом».
В данном случае книга Эйхенбаума не интересует нас как источник по изучению ранней поэтики Толстого. Нас интересует, как определенный, концептуально отобранный исторический материал используется для производства особого интерпретативного дискурса, который не просто занимает метапозицию по отношению к художественному методу Толстого, но встраивается в него, используя его элементы в качестве своих собственных. В результате такой операции аналитическое мышление Толстого оказывается чрезвычайно близким самому формальному методу, Толстой выступает как авторитетная фигура, через интерпретацию которой артикулируются важные теоретические акценты, более того, — они артикулируются в качестве открытых у Толстого, а не изобретенных самими формалистами 42. Реинтерпретируя раннее творчество Толстого и специфику его взгляда на мир через создаваемую им систему формальных приемов, Эйхенбаум делает вывод о том, что уже начиная с ранних дневниковых записей основой творческого метода писателя была выработка такой позиции и такого способа наблюдения, которые позволяли бы ему дифференцировать и разлагать на простые составляющие «смутный, слитный, неразложимый поток чувств» и явлений действительности 43. Наиболее обнаженного и овеществленного характера такая позиция и метод наблюдения достигают в «Севастопольских рассказах», в эйхенбаумовском анализе которых опоязовский способ наблюдения и оптический аппарат, отбирающий релевантный для наблюдения и описания материал, также приобретают объективирующее измерение. Согласно Эйхенбауму, основным приемом разрушения романтического батального канона становится у Толстого переключение внимания на «внешнюю позицию наблюдателя, которого он сталкивает с “настоящими” образами войны» 44. «Настоящими» образами войны становятся израненные и расчлененные человеческие тела, по крайней мере именно эти образы оказываются в центре исследовательского внимания Эйхенбаума. Вот описание полевого госпиталя из рассказа «Севастополь в декабре 1854 года»: «Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство… 45 увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет, не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания» 46. Посредством этой телесной и хирургической топики, повторяющейся и во многих других аналогичных примерах, извлеченных из «Севастопольских рассказов», Эйхенбаум демонстрирует, каким образом Толстой отрицает традиционные приемы описания войны («острый кривой нож входит в белое здоровое тело»), остраняя героизированный образ войны. Однако в этой, описанной молодым Толстым сцене, точнее — в этой сцене, процитированной в аналитических целях еще довольно молодым Эйхенбаумом, остранению подвергается не только романтический канон, но и телесная специфика само-го концепта «остранения», его связь как с просвещенческой метафорикой познания, так и с насильственной физической деформацией, ранением, раной, которые история (и война как наиболее отчетливый репрезентант исторического движения) оставляет на теле человека. Вся эта сцена построена на риторическом рефрене, переакцентирующем перцепцию с речевого плана на визуальный, что для Толстого означало хирургическое отслаивание конвенциональных пластов унаследованного литературного языка и переход к непосредственному и не опосредованному традицией зрению, а для формалистов — обнажение любой литературной конструкции, которое ими последовательно описывалось как перевод языкового в видимое. Зрение как бы вспарывает порядок дискурса, «речевое тело» которого корчится, но «приходит в чувство», выпадает из бессознательного автоматизированного состояния. Характерно, что сам Толстой тематизирует этот момент наблюдения, умножая число страдающих тел и вводя еще одного, внутреннего, наблюдателя, страдание которого должно стать моделью, предопределяющей читательское восприятие. Боль, претерпеваемая де-формированными телами раненых, деформирует и позицию наблюдателя и дистанцию между ним и наблюдаемым объектом: по сути — это одно и то же страдающее тело, одновременно подвергающееся хирургическому вмешательству и вторжению наблюдающего взгляда Другого, который в свою очередь тоже искажен страданием.
С помощью анализа этой и аналогичных ей военно-полевых сцен Эйхенбаум стремился показать формальную организацию работы Толстого, в результате которой репрезентация внутренней жизни смещалась от синтетической и недифференцируемой модели души к аналитической модели психического аппарата. Мы пытаемся выявить в аналитической стратегии формалистов ее вписанность в определенный метафорический и концептуальный ряды, уходящие, с одной стороны, в их собственный исторический и телесный опыт, а с другой — в интеллектуальный опыт современности (modernity). Изменение естественной дистанции между художником и репрезентируемым им объектом, накладывающее отпечаток и на характер самой репрезентации, было одним из вопросов, занимавших Вальтера Беньямина в работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1935—1936). Собственно участие технологии в производстве произведения искусства и рассматривалось им в качестве причины изменения (точнее, сокращения) этой дистанции. В качестве примера такого продуктивного, но не безобидного альянса между искусством и технологией Беньямин рассматривает кинематограф, который сопоставляется им с различными традиционными видами искусства. Так, сравнивая живописца и кинооператора, Беньямин вводит медицинскую метафору, противопоставляя их как знахаря и хирурга соответственно. «Позиция знахаря, врачующего наложением руки, отличается от позиции хирурга, вторгающегося в больного. Знахарь сохраняет естественную дистанцию между собой и больным; точнее сказать: он лишь незначительно сокращает ее — наложением руки — и сильно увеличивает ее — своим авторитетом. Хирург действует обратным образом: он сильно сокращает дистанцию до больного — вторгаясь в его нутро — и лишь незначительно ее увеличивает — с той осторожностью, с которой его рука движется среди его органов». Там, где живописец сохраняет дистанцию, — оператор «глубоко вторгается в ткань реальности». Там, где знахарь предпочитает контакт с пациентом как с личностью (т.е. с неким органическим и нечленимым единством), — хирург применяет оперативное вмешательство 47. Беньяминовское описание работы кинооператора типологически тождественно эйхенбаумовскому описанию толстовского метода наблюдения и работы с реальностью и психологией персонажей. И дело здесь не только в том, что в обоих случаях концептуализация осуществляется в хирургических терминах. Дело в специфике самого концептуализируемого явления и в совпадении акцентов при его описании.
И для формалистов и для Беньямина произведение искусства, культура, неавтоматизированное отношение к повседневности раскрываются в характере и способе осуществляемого наблюдения. Изменение дистанции между наблюдателем и наблюдаемым объектом или изменение дистанции между самими объектами лежит как в основе формалистской идеи остранения, так и в основе разрабатываемой в работах Беньямина концепции фланера, наблюдателя, чей остраняющий аналитический взгляд делает вещи новыми и непривычными, иными словами — видимыми, а не узнаваемыми 48. Технология лишь делает изменение дистанции внешним по отношению к самому наблюдению, благодаря технологии дистанция сама становится доступна для наблюдения. Именно поэтому хирургия, проблематизирующая дистанцию между субъектом и объектом, разрушающая границу между взглядом и непосредственным вторжением в реальность, совмещающая мастерство и технологию, и становится концептуальной моделью для описания специфики кинематографа (в случае Беньямина) и для описания механизмов остранения, в частности толстовских приемов визуализации внутренней жизни, т.е. невидимого (в случае Эйхенбаума) 49.
Страдание раненого тела разрушает иллюзию внутреннего единства субъекта, отчуждая сознание от тела, делая сознание остраненным, но не отстраненным наблюдателем вдруг ставшего чужим тела. Как пишет Эйхенбаум, Толстому нужен не столько факт смерти, сколько процесс умирания, описываемый последним как процесс расщепления сложной, неразложимой внутренней органической жизни на простые и далее не делимые элементы (связанный с этим момент телесного расчленения объективирует этот необратимый и летальный процесс внутренней психологической дифференциации). Описание ощущений умирающего, правильность которого, по словам Эйхенбаума, невозможно проверить, является приемом, благодаря которому герой «сделан посторонним самому себе» 50. Смерть оказывается не только результатом телесной деформации и фрагментации, но, обретая континуальное измерение в процессе умирания, она начинает порождать собственные эффекты, включает механизмы внутренней дифференциации и расчленения психической жизни субъекта, отчуждающие героя от него самого. В результате изображение смерти, вводимое Толстым через моменты наблюдения за мертвым или израненным телом, служит, с точки зрения Эйхенбаума, чисто формальным приемом, позволяющим, во-первых, разрушить сложившиеся поэтические каноны, во-вторых, создать депсихологизированную аналитическую модель литературного героя и, наконец, в-третьих, выработать оригинальный способ описания, при котором дискурс воспроизводит движение взгляда, ощупывающего уже разорванную им поверхность тел и предметов, выворачивающего внутреннее наизнанку: делающего внутреннее внешним и потому доступным наблюдению 51. Именно овеществление и визуализация внутренней жизни, к которым, согласно Эйхенбауму, стремился Толстой, и делали моменты телесного расчленения и смерти такими привлекательными (для Эйхенбаума в не меньшей степени, чем для Толстого) для отработки приемов «остраняющей поэтики».
Эйхенбаум с навязчивой настойчивостью воспроизводит примеры, демонстрирующие метод Толстого, состоящий в том, чтобы «подчеркивать в наружности уродливые и странные черты (выделено мной. — И.К.)»52, не мотивированные повествовательно и создающие своеобразную царапину, усиливающую читательское восприятие и остраняющую привычный рецептивный контекст. Эйхенбаум приводит пример, в котором бессмысленность, уродливость и странность происходящего доводят до некой дистиллированной прозрачности толстовскую поэтику остраняющего взгляда, а одновременно и ее формалистскую интерпретацию. Причем объектом устрашающего и заинтересованного наблюдения вновь становится груда расчлененных тел: «(Мальчик) остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и снова стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости»53. В данном случае остраняющий эффект, возникающий уже вследствие абсолютной нарративной немотивированности сцены, еще более усиливается благодаря тому, что наблюдающий взгляд принадлежит ребенку. Более того, визуальное восприятие переходит в непосредственный тактильный контакт, причем наибольший интерес ребенка вызывает самый страшный из наблюдаемых объектов. Вся эта сцена проблематизирует границу между живым и мертвым, органическим и механическим: движение перестает быть качеством, отличающим живое тело, оно может указывать также и на нейтральный по отношению к противопоставлению живое/мертвое принцип конструкции. Именно это открытие механизма за утратившей замкнутость органической поверхностью пугает больше, чем зрелище безголового трупа. Триумфом войны оказывается обнажение конструкции: телесное расчленение дезавуирует иллюзию органического единства, запущенный им процесс умирания демонстрирует разложимость внутренней жизни на простые и деиндивидуализированные элементы, на-писанная во время Гражданской войны книга Эйхенбаума вскрывает в шокировавших современников военных рассказах Толстого совокупность литературных приемов.
Шкловский также эксплицирует связь познания и хирургии: «Почему Брик не пишет? У него нет воли к совершению. Ему не хочется резать, и он не дотачивает свой нож… (Невозможно удержаться и не продолжить цитату, в которой недостаток хирургической воли обращается на самого аналитика: неспособность резать, чтобы выявлять конструкцию предмета, оборачивается утратой ощущения собственной конструкции. — И.К.) Если отрезать Брику ноги, то он станет доказывать, что так удобней» («Третья фабрика», 1926) 54. Борис Гройс в своей книге «Под подозрением. Феноменология медиа» в связи с визуальной поэтикой кубизма (соотносимой с литературной практикой футуризма и теоретическими построениями ОПОЯЗа) так описывает переакцентуацию внимания со смысла на сам носитель смысла: «...кубизм не просто интерпретировал картину как послание медиума — он почти принуждал ее признаться в своей медиальности — используя для этого религиозные практики, очень напоминающие традиционные методы пытки: редукцию, фрагментацию, разрезание, коллажирование»55. Однако в контексте нашего разговора о формализме эти практики обнажения «медиальности» или «сделанности» художественного объекта распространяются на самого художника, приобретают экзистенциальное (и даже телесное) измерение — приемы декомпозиции связываются не только с методами до/познания, а стоящие за ними образы телесных деформаций перестают быть просто метафорой или даже моделью эвристических или эстетических процедур, но становятся непосредственными следами исторического опыта, отпечатанными на теоретической парадигме формалистов и на их телах под давлением времени и «соседних социальных рядов».
Образы телесного расчленения интересуют нас не столько как метафоры работы познания, сколько как аллегории (в беньяминовском смысле) работы истории. Раскрывая проблематику исторического у Ницше, Фуко писал: «В качестве анализа истока генеалогия — это артикуляция тела и истории. Она должна показать тело, испещренное историей, и историю, разрушающую тело» 56. Пример приложения такого действия истории к телу находим в «Сентиментальном путешествии»:
Он рассказывал мне еще подробность про взрыв.
После взрыва солдаты, окруженные врагами, ждущие подвижного состава, занялись тем, что собирали и составляли из кусков разорванные тела товарищей.
Собирали долго.
Конечно, части тела у многих перемешали.
Один офицер подошел к длинному ряду положенных трупов.
Крайний покойник был собран из оставшихся частей.
Это было туловище крупного человека. К нему была приставлена маленькая голова, и на груди лежали маленькие, неровные руки, обе левые.
Офицер смотрел довольно долго, потом сел на землю и стал хохотать…
хохотать… хохотать… 57
Для нас здесь важна не только демонстрация «тела, испещренного историей, и истории, разрушающей тело», но важно и то, что Шкловский (как и Ницше) показывает работу историка, обнажает фиктивность традиционной генеалогии, обретаемой в результате реверсивного по отношению к истории движения: там, где должен был находиться некий органический исток (Ursprung), мы находим случайную механическую конструкцию. Через образы расчлененных тел и, самое главное, через образ их реинтеграции Шкловский дает аллегорию как самой работы истории, так и встречной по отношению к ней интерпретативной работы историка.
Кроме того, за естественной и оправданной повествовательно психологической мотивировкой хохота офицера можно выявить философский контекст, позволяющий увидеть за этой очевидной мотивировкой возможность иной, более содержательной интерпретации. Этот контекст через третий элемент — смех — устанавливает дополнительную связь между телесной деформацией и обнаружением под органической оболочкой механической конструкции и отсылает к актуальному для формалистов источнику, а именно к философии Анри Бергсона, точнее, к его работе о смехе — «Le Rire» (1899). Смешное у Бергсона покрывает сферу, превышающую сферу комического (так же как у Тынянова область пародии превышает область комического 58). Согласно Бергсону, непосредственной причиной смеха оказывается неспособность человека поддерживать контроль над собственным телом, с другой стороны, сам смех становится общественным жестом, призывающим вновь обрести этот контроль, искусство же выявляет через комические эксцессы скрытый автоматизм повседневности 59. «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на нас впечатление вещи», — утверждает Бергсон, двигаясь в своей теории смеха от эффектов, связанных с «искусственной механизацией (выделено автором. — И.К.) человеческого тела», к более общей идее подмены «естественного искусственным» 60. Смех в данной сцене приобретает характер короткого замыкания, прерывающего нормальное течение душевной жизни и переводящего потенциально разрушительную эмоцию в регистр формальных, интеллектуальных реакций. Травматический опыт столкновения с разъятым на части человеческим телом (собственно, это даже не тело, а фрагменты нескольких тел) блокируется и нейтрализуется через смех как предельно отстраненную позицию, позволяющую сохранить некоторую внутреннюю целостность. В этом смысле смех, являясь незаинтересованной реакцией на выявление конструкции, оказывается моделью эстетического восприятия как такового 61. Несмотря на то, что искусство и история, с точки зрения формалистов, исходят в своем движении из принципа остранения, эстетическое восприятие оказывается своеобразной терапией исторической опыта.
Тынянов обнаруживает еще более интересную связь между смертью, разъятием на части (делающим их происхождение анонимным, а сами части абсолютно деиндивидуализированными) и литературной традицией, которая снова реинтегрирует эти части/элементы в новое единое целое, наделяя его именем и исторической перспективой. Драматический образ этой констелляции между смертью, телесной фрагментацией и генеалогией Тынянов вводит в финале романа «Смерть Вазир-Мухтара». После убийства русского посла Грибоедова в Тегеран направляется специальная комиссия, в задачу которой входит поиск останков погибших для их захоронения на родине. Однако процесс разложения и сам характер убийства сделали невозможными не только идентификацию тел, но и реинтеграцию их частей: «Вскоре обнаружились черные, полусгнившие тела и части тел. Их выбрасывали на поверхность рва, и они лежали рядом, похожие друг на друга, как будто под одним нумером изготовила их одна фабрика. Только у одних не хватало рук, у других ног, а были и вовсе безыменные, не имевшие названия, предметы (выделено мной. — И.К.)».
В конце концов старик-армянин, который должен был опознать тело Грибоедова, утверждает не только абсолютную невозможность узнать тело посла, но и абсолютную иррелевантность такой задачи.
Дело не в человеке, а дело в имени.
Не все ли равно… кто будет лежать здесь и кто там? Там должно лежать его имя, и ты возьми здесь то, что более всего подходит к этому имени. Этот однорукий... лучше всего сохранился, и его меньше всех били. Цвета его волос разобрать нельзя. Возьми его и прибавь руку с перстнем, и тогда у тебя получится Грибоед.
Однорукого взяли, руку приложили. Получился Грибоед 62.
Телесная идентичность замещается здесь более устойчивой идентичностью имени и творения, преодолевающими смерть и телесный распад. Повторное (посмертное) обретение индивидуальности оказывается результатом номинации: имя выступает как символическое целое, наделяющее связями анонимные и гетерогенные фрагменты. Далее Тынянов воспроизводит литературный сюжет, описывающий встречу Пушкина с караваном, везущим гроб с телом Грибоедова. Пушкин выступает здесь как инстанция, встраивающая имя в литературную традицию и наделяющая останки Грибоедова определенным историческим значением 63: «Ему нечего было более делать. Смерть его была мгновенна и прекрасна. Он сделал свое: оставил “Горе от ума”» 64. В своей интерпретации эпизода с эксгумацией останков Грибоедова Драган Куюнджич исходит из аналитической перспективы деконструкции, связывая образы расчленения с демонстрацией некоего насилия, имманентного механизмам пародии, и устанавливая зависимость теории пародии Тынянова от исторической критики, осуществленной Ницше. Разделяя это утверждение, я тем не менее исхожу из несколько иной перспективы чтения, делающей акцент на аллегорической (в беньяминовском смысле) структуре этого образа и позволяющей выделить в описании Тынянова еще один уровень иронии. Эта ирония уже не связана с пародийной машиной истории, но направлена на саму попытку обретения истока, который должен быть подвергнут пародийному разъятию: аутентичный исток ускользает от пародирования, в удел дальнейшей реактуализации достается уже фрагментированная и произвольная конструкция: «у одних не хватало рук, у других ног, а были и вовсе безыменные, не имевшие названия, предметы». В интерпретации Пушкина смерть Грибоедова оказывается не просто необходимой и неизбежной, но и почти ритуальной, приобретая черты какого-то катартического обновления: «смерть его была мгновенна и прекрасна». Однако в результате столкновения этого отстраненного взгляда sub specie eternitas и тыняновского описания смерти Грибоедова 65 возникает ироничный эффект, остраняющий условность любого ретроспективного взгляда, наделяющего автора или его творение «законным местом» в истории литературы: «Ему нечего было более делать… Он сделал свое: оставил “Горе от ума”». Эта ироничная полемика с пушкинским мифом, приобщение к которому обеспечивает бессмертие, сближает текст Тынянова с рефлексивной и репрезентативной логикой барочной драмы, согласно которой «аллегоризация природы может быть проведена со всей строгостью только по отношению к трупу. И герои Trauerspiel умирают потому, что только так, как трупы, они могут войти в родную стихию аллегории. Не ради бессмертия они находят свой конец, но ради трупа» 66. Согласно этой логике бессмертие героя обеспечивается не благодаря его единству с собственным творением, а, наоборот, благодаря его собственной смерти, разъятию на части его тела, фрагментации его текста, растащенного на утратившие авторство, аутентичность и память о своем происхождении цитаты и крылатые выражения, пополнившие фонд для дальнейшей фигурации. Эта циркуляция фрагментов, одновременно стирающая память об источнике и актуализирующая ее, и обеспечивает специфическое литературное бессмертие, имеющее боль-шее отношение к смерти и руине, чем к статичному монументу.
Телесная деформация, реализующая работу истории (убийство Грибоедова), удваивается в попытке исторической реконструкции, в поиске исторической аутентичности (поиск тела русского посла для его захоронения). Но Тынянов идет дальше Шкловского: он не только демонстрирует встречные деформации, производимые историей и историком, но и изображает последнюю именно как текстуализацию тела: «дело не в человеке, дело в имени». Становясь историчным, тело руинизируется и превращается в имя, в текст. В случае Грибоедова этот процесс просто обнажается (в формалистских терминах) или аллегоризируется (в терминах Беньямина) в образе жестокого убийства 67 и единственно идентифицированной правой руки, которая является не только метонимией целого — тела, но и метонимически отсылает к творению, к тексту. Кстати, эту работу по пародийной фрагментации телесного единства и аутентичности героя Тынянов проделал раньше разъяренной толпы «исламских фанатиков», когда создал его пародийного двойника в образе слуги, Сашки, внешность и поведение которого заставляют Грибоедова подозревать своего отца в карамазовских прегрешениях. Здесь возникает пародийная конструкция второго порядка: слуга пародийно воспроизводит своего господина, а Тынянов пародирует Достоевского, чье пародирование Гоголя послужило материалом для тыняновской теории пародии 68, — так лишний раз «по-формалистски» закольцовываются формальная теория и литературная практика формалистов, а формалистская история литературы оказывается вписанной в их историческую прозу. В рамках теоретической поэтики и художественной практики формалистов разрывание на части, монтаж фрагментов, принадлежащих различным текстам и телам, одновременно и отсылают к действию закона исторического, и лежат в основе их видения эволюционных механизмов истории литературы. Трансцендирующий характер истории, смерть, телесная фрагментация, входившие в биографический опыт формалистов, преломляли и их взгляд на механизмы литературного развития. В этой перспективе между разрушением органических единств человеческого тела и художественного текста возникает очевидное типологическое сходство. Текстуальное пространство, в отличие от тела, наделяется способностью к переинтеграции: изолированные элементы пародируемого текста реорганизуются в новое пародирующее единство. Разъятое на части тело, лишенное возможности обрести новую телесную целостность, обретает единство иного порядка в процессе текстуализации, превращаясь в имя, в знак и инкорпорируясь в выстраиваемое из его заговоривших фрагментов произведение, тело умирает и возрождается в тексте — смерть А.С. Грибоедова дает жизнь «Смерти Вазир-Мухтара». Однако при этом Тынянов, показывая в действии зубодробительную работу пародии и обнажая механическую природу производимых ею эффектов, как бы «пародирует» сам механизм пародии, точнее — собственную теорию пародии, согласно которой «самостоятельная художественная ценность (пародии. — И.К.) достигается тем, что при разрушении органического единства пародируемого произведения устанавливается новое органическое единство»69.
Сцена обретения останков Грибоедова, построенная вокруг проблематизации феномена целостности и органической аутентичности, может быть прочитана не только как аллегория исторического движения и генеалогического возврата к истоку, но и как пародийное изображение механизирующего действия пародии и дезавуирование ее претензии на органичность: «Однорукого взяли, руку приложили. Получился Грибоед». Выстраивая сложную систему пародийных рамок, историческая проза формалиста демонстрирует новый уровень рефлексии по отношению к ранней формальной теории.
Вальтер Беньямин в своей книге «Происхождение немецкой барочной драмы» (1925) на материале барокко продемонстрировал, что истинный способ аллегоризации — это «переход от тела к его фрагменту, от органического к вещи»70, от тела к тексту (что означает одновременно переход от живого к мертвому), — в этом же заключался и пафос раннего формализма. При этом Беньямин не просто описывал аллегорию как основной механизм барочного художественного мышления, но и концептуализировал ее семантическую конструкцию как отражение структуры самого исторического движения, всхождения истории на неподвижную сцену природы. Поэтому в его трактовке аллегория не была простой и непротиворечивой эмблемой некоего абстрактного понятия, но приобретала черты диалектической драмы между историей и природой, между многозначностью и законом экономии усилий, между речевым и визуальным, между частью и целым. За свою историчность, согласно Беньямину, телу приходится расплачиваться руинизацией, то есть синекдохическим замещением частью целого, в котором часть, фрагмент, руина отсылает одновременно к утраченному целому и к тому движению истории, которое лишило эту связь органичности. «В царстве мысли аллегория то же, что в царстве вещей — руины», — пишет Беньямин 71, «аллегорически» интерпретируя пространственные образы разрушения.
Деавтоматизация восприятия (т.е. оживление жизни) реализовывалась согласно формальной теории (и литературной практике самих формалистов) через механизмы текстуализации тела, превращения тела в текст. Только такая аллегорическая практика оказывалась, с точки зрения формалистов, способной вывести тело из органического и потому асемантического бытового контекста в символическое пространство. Только фрагментация возвращала телу его стершийся образ, повторное обретение целостности виделось как продукт обнажения конструкции, а этот эффект обнажения могла обеспечить лишь деформация некоего изначального (т.е. выступающего в качестве нейтрального горизонта восприятия) органического единства. Чтобы тело стало историчным, чтобы оно заговорило, его нужно сделать артикулируемым, т.е. членораздельным 72. Если произведение искусства, как пишет Шкловский, «сделано целиком», что и стремится продемонстрировать формалистская поэтика, то для того, чтобы обнаружить ту работу, которую история совершает над телом, для того, чтобы выявить «сделанность» тела, — его нужно «разделать», примеры чего можно наблюдать в научной и художественной практиках формалистов. Прием обнаружения деформирующей работы истории также оказывается приемом де- и рекомпозиции материала. Причем и первое и второе аллегоризируются через телесный распад и образы смерти: опыт историзирующего чтения оказывается неотделим от исторического опыта читающего, что и стремятся показать нам формалисты.
На этом уровне парадокс заключается в том, что «оживление» человеческого образа, оживление «я» осуществляется через приложение к нему искусства или истории, которые даны в аллегориях фрагментации и смерти. Однако риторические машины искусства и истории, осуществляющие типологически сходную работу по декомпозиции «органического», производят принципиально различные эффекты: в первом случае искомым является композиция материала, во втором им оказывается сам материал. В первом случае тело (или тело текста) членится, исходя из представления о его конструкции, собственно, это анатомирование и должно подтвердить или опровергнуть это предварительное представление. Во втором случае тело попадает в устройство, в котором оно сегментируется, независимо от его внутренней организации, конструкция не обнажается, а измельчается до состояния материала. Разница между эффектами искусства и истории реализуется через различие между членораздельностью и расчленением 73.
Однако между Беньямином и русскими формалистами (это относится и к русскому авангарду в целом) существует принципиальное различие в темпоральном модусе, организующем отношения между субъектом и аллегоризированным в образе руины объектом. Претерпевая экзистенциальные деформации и трансцендируя этот телесный опыт в динамическую модель искусства, формалисты демонстрировали исторический оптимизм, далекий от беньяминовской меланхолии: в их творчестве руина не отсылает к утраченному целому, но сама является объектом желания. Революция и Гражданская война, до предела развертывая механизмы остранения, нарушали привычные отношения между частью и целым, между текстом и контекстом, между искусством и жизнью. Однако это зримое и осязаемое перераспределение границ служило аргументом в пользу опоязовского взгляда на мир. Если Беньямин регистрировал распад органического единства культуры и фрагментарность человеческого опыта как атрибуты, трагически отличающие современность (modernity) от предшествующих эпох, формализм (на ранней стадии своего развития) с энтузиазмом приветствовал современность как освобождение от устаревших иллюзий органичности и единства. Фрагментация лишалась заложенной в ней трагичности, превращаясь в эвристическую и эстетическую процедуру, в прием обнажения конструкции. Образ руины не передавал, как у Беньямина, катастрофический характер истории, но становился позитивным знаком вторжения искусства в нехудожественную реальность (при этом неосознанно эстетизировалась сама катастрофа). Описывая окруженный Юдени-чем Петроград, Шкловский с почти нескрываемым торжеством фиксировал этот тектонический сдвиг, который, подобно оползню, раздвигал границы искусства, разрушая стершуюся архитектонику реальности: «Появились искусственные развалины. Город медленно превращался в гравюру Пиранези»74. Так же как и у Беньямина, сквозь фрагментированные очертания современности у формалистов просвечивает фигура барочной руины (с характерной отсылкой к Пиранези) 75, однако барочная трансгрессивность наделяется ими позитивным оттенком модернизации. Искомым в данном случае является не ностальгическая топонимика памяти, выстраивающая свой мнемонический маршрут от одной руины к другой, постепенно регенерируя символическую полноту утраченного. Напротив, предметом поиска здесь является не прошлое, но сама история: руина не отсылает к аллегоризируемому объекту, но замещает его собой. Фрагментация феноменально реализует движение истории. Как это ни парадоксально, но в поэтике формализма фрагмент, руина возвращает целому его стершуюся форму, поэтому здесь нет места меланхолии, рассматривающей руину как образ долгого, но безрезультатного пути к аутентичному истоку. В каком-то смысле можно сказать, что в рамках русского авангарда руина — точнее, перманентный процесс руинизации — отсылает не к прошлому, а к будущему, превращаясь из свидетельства, позволяющего восстановить очертания прошлого, в пророчество, предвещающее конструкцию грядущего мира 76. При этом логика перманентного отрицания закрепляет фрагментацию текстов, руинизацию повседневности и расчленение тел в вечном настоящем культуры. В своем эссе «Москва» (1927) Беньямин угадывает эту негативную диалектику в типично «русской черте» — страсти к ремонту, в которой «столько же наивного стремления к хорошему, как и безграничного любопытства и отчаянной удали». Эта страсть реализуется в перманентной перегруппировке, перемещении и перестановке элементов внутри системы 77. Описывая эту одержимость новой культуры поэтикой эксперимента, Беньямин прибегает к алхимической метафоре: «Словно металл, из которого всеми способами пытаются получить неизвестное вещество, каждый должен быть готов к бесконечным экспериментам. Ни один организм, ни одна организация не может избежать этого процесса». Результатом этой открытости системы к фрагментации и внутренней ротации элементов становится исключительная интенсивность переживания времени. Готовность к преобразованиям делает «каждый час предельно напряженным, каждый день изматывающим, каждую жизнь — мгновением»78.
Формалисты репрезентировали революционный опыт и опыт войны как обострение зрения, как обнажение конструкции. Это было разрушение иллюзии органичности, производство которой, с их точки зрения, было связано с усилиями традиции, старого режима, буржуазной идеологии утвердить собственный природный, т.е. субстанциональный и вечный, статус. Обнажение приема означало обнажение конститутивного принципа искусства, но одновременно оно означало и обнажение историчности социальных конструкций и самой человеческой субъективности. И если в контексте теоретических работ формалистов это обнажение описывалось в терминах «остранения», «невязки», «пародии», «деформации» и т.д., то в фикциональном контексте их прозы эти концепты не только воспроизводились в нарративной структуре (отступлениях, фрагментации, рекурсивных ходах и т.д.), и даже не только тематизировались в метатекстуальных автоописаниях, но и, что наиболее важно для нас, аллегоризировались в образах телесного расчленения, декомпозиции частей человеческого тела, иными словами, в образах смерти. Надо сказать, что эту зафиксированную формалистами и схваченную в аллегории связь между расчленением тела и работой истории история в скором времени подтвердила.
1) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002. С. 217.
1а) Эйхенбаум Б.М. Мой временник. М., 2001. С. 534.
2) Среди работ, исходящих из данной аналитической перспективы, необходимо отметить: Левинтон Г.А. Еще раз о комментировании романов Тынянова // Русская литература. 1991. № 2; Ямпольский М.Б. Маска и метаморфозы зрения (заметки на полях «Восковой персоны» Ю. Тынянова) // Пятые Тыняновские чтения. М.; Рига: Импринт; Зинатне, 1994; Он же. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК «Куль-тура», 1993, и недавнюю работу: Блюмбаум А. Конструкция мнимости. К поэтике «Восковой персоны» Юрия Тынянова. СПб.: Гиперион, 2002.
3) Сразу уточню, что, говоря о русском формализме, я имею в виду триумвират (Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум), хотя тот же конструктивный принцип закольцовывания литературной и литературоведческой практики был унаследован и младоформалисткой Лидией Яковлевной Гинзбург.
4) Письмо В.Б. Шкловского Б.М. Эйхенбауму от 21.08. 1959 г. Цит. по: Из переписки Юрия Тынянова и Бориса Эйхенбаума с Виктором Шкловским // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 215.
5) К случаю русского формализма можно отнести замечание В. Беньямина: «Сегодня невозможно определить состояние какой-либо дисциплины, не показав, что ее нынешнее положение представляет собой не просто звено в автономном историческом развитии данной науки, но и, более того, элемент культуры в целом в данный момент» («Литературная история и наука о литературе», 1931 г.) (Benjamin W. Histoire littéraire et science de la littérature // Benjamin W. Poesiéet Révolution. (Trad. fr.). Paris: Denoél, 1971. P. 7).
6) Эйхенбаум Б.М. Мой временник. М., 2001. С. 52.
7) По крайней мере они напоминают вторую половину 1920-х, описанную с точки зрения человека, пережившего эпоху еще не канализированной властью социальной активности.
8) Шкловский В.Б. Третья фабрика // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось…». С. 372.
9) См. «круглый стол» «Философия филологии» в: НЛО. 1996. № 17. С. 51—54.
10) Много позднее Шкловский сам эксплицировал внутреннюю корреляцию между литературно-критическим понятием «прием» и телесным артистическим трюком. Так, в биографии Эйзенштейна (местами оказывающейся до-вольно прозрачной криптограммой автобиографии само-го Шкловского) он писал: «Я ввел это понятие “искусство как прием” довольно рано, в 1916 году, только не определил, что это за прием. Греки знали это лучше меня, они называли основные элементы произведения “схема-та”. Схемата — первоначально выверенное движение гимнаста» (Шкловский В.Б. Эйзенштейн. М., 1976. С. 36). Таким образом, текст, представляющий собой, согласно раннему формализму, динамическую совокупность приемов, приобретает скрытое телесное измерение; поэтическое преодоление практического языка находит аналог в пластике тренированного человеческого тела, преодолевающего экономизм повседневной кинетики.
11) То же относится и к ментальному модусу формалистов (и прежде всего Шкловского), определившему специфику их исторического сознания и одновременно наложившему отпечаток на их теоретическое мышление. На этот интроективный момент, вписывающий объективный ряд литературных приемов в ментальный тип человека, заявившего, что произведение искусства есть их сумма, со свойственной ей наблюдательностью обратила внимание Л.Я. Гинзбург в одной из своих записей середины 1920-х годов: «Когда его [Шкловского] слушаешь, вспоминаешь его книги; когда его читаешь, вспоминаешь его разговоры... в рассказанном Шкловским анекдоте вижу его синтаксис, графическую конструкцию его фразы... сдвиги, перемещения и отступления являются для него литературным приемом, быть может, в гораздо меньшей степени, чем для Стерна; они производное от его мыслительного аппарата» (Гинзбург Л.Я. Записные книжки. СПб., 2002. С. 13).
12) Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. С. 26.
13) Шкловский В.Б. Рецензия на эту книгу // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. Л., 1928. С. 108.
14) Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1929. С. 180.
15) Тот же принцип деформации распространяется Шкловским не только на уровень композиции, но и на уровень семантики и звучания слова, на уровень соотношения внутренней и внешней форм слова. Так, в качестве способа воскрешения слова он видит разрушение его привычного облика, причем этому разрушению придаются телесные и даже антропоморфные черты: «И вот теперь, сегодня (1913 год. — И.К.), когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не мертвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились “произвольные” и “производные” слова футуристов» (Шкловский В.Б. Воскрешение слова // Шкловский В.Б. Гамбургский счет. С. 40).
16) Что для формалистов равняется «значимой», «содержательной». Ср. с высказыванием А. Белого, чувствительного к формальной организации текста: «Кажущееся содержание есть лишь порядок в расчленении формы». (Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 135). Эта фраза А. Белого была использована А. Горных в качестве эпиграфа к своей интересной и не тривиальной по исходной аналитической установке книге (см.: Горных А.А. Формализм: От структуры к тексту и за его пределы. Минск, 2003). В главе, посвященной русской формальной школе (с. 48—95), Горных также стремится выявить присутствие в формальной теории телесных мотивов и травматических комплексов, работающих как скрытые (иногда и от самих формалистов) матрицы смыслопорождения. Однако, во-первых, А. Горных рассматривает их только как модель формалистского метаописания художественного текста, но не как телесные следы их (формалистов) собственного исторического опыта, во многом ответственные за концептуальные очертания ОПОЯЗа как такового, а во-вторых, не конкретизирует ни источник травмы, ни ее симптоматику и поэтому обходит вниманием такие ее разноуровневые эффекты, как декомпозиция, фрагментация, расчленение. О де-формирующем внеэстетический материал художественном насилии, конститутивном для эстетической практики и теории исторического авангарда, писал И.П. Смирнов, помещая эту культуру в психоаналитическую перспективу и описывая креативный опыт авангарда через садистический психотип производящего этот опыт субъекта. Об этом см.: Смирнов И.П. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 179—231.
17) Morson G.S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky’s Diary of a Writer and the Tradition of Literary Utopia. Austin, 1981. Р. 52.
18) Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983. С. 15.
19) Примеры первого и последнего разбросаны по его автобиографической прозе (ср.: «Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» (Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 260)), супружеская же измена прописывалась еще В.В. Розановым как способ вновь обрести «съеденную» автоматизацией жену, на что не без удовольствия указывал Шкловский как на один из видов остранения и экстраполировал эту ситуацию на историю литературы: «Такой изменой в литературе является смена литературных школ» (Шкловский В.Б. Розанов. Пг., 1921. С. 12).
20) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 226.
21) Там же. С. 192.
22) Там же. С. 144. Ср. с утверждением относительности статуса литературного факта, являющейся одним из факторов литературной истории: «То, что в одной эпохе является литературным фактом, то для другой будет общеречевым бытовым явлением, и наоборот, в зависимости от всей литературной системы, в которой данный факт обращается» (Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 273). Выводы, к которым к середине 1920-х годов приводит Тынянова изучение литературной истории, отсылают также и к непосредственному историческому опыту изменения социальной иерархии.
23) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 185— 186. Здесь также нужно учитывать политический контекст этих строк, которые писались в начале 1922 года, в момент, когда велась подготовка процесса над правыми эсерами, к партии которых принадлежал Шкловский. Возможный и даже вероятный приговор угрожал лишить распавшееся единство субъективности последнего, телесного, алиби. Об этом см.: Галушкин А. «Приговоренный смотреть…» // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось…». С. 8.
24) См.: Шкловский В.Б. Искусство как прием // Сборники по теории поэтического языка. Вып.2. Пг., 1917. С. 3—14.
25) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 261, 186.
26) Которая по сути есть текстуализация нашего поведения, поскольку является воспроизведением, повтором одних и тех же элементов нашей поведенческой повседневности. Привычка описывается как последнее прибежище автоматизма, без которого полностью распадается биографическая ткань; привычка, таким образом, оказывается сопоставима с инерцией поэтического ритма, на фоне которой ощущается семантический сдвиг. Ср.: Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М.: Высшая школа, 1993.
27) «А безумие систематично, во время сна все связано» (Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 186).
28) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 156.
29) Этот же механизм сохранения хотя бы относительно целостной субъективности описал немецкий психоаналитик и антрополог Клаус Тевеляйт в книге, посвященной анализу психологии немецкого солдата Первой мировой войны, его травматическому опыту и возвращению этих травм в нацистской культуре. С его точки зрения, письмо является терапевтическим средством, позволяющим сохранить ядро внутренней идентичности субъекта, поставленной под сомнение травматичностью его опыта. В качестве примера такой стабилизирующей работы письма Тевеляйт приводит дневниковые записи Эрнста Юнгера; можно также вспомнить и тайный дневник его австрийского союзника, Людвига Витгенштейна. Обэтомсм.: Theweleit K. Männerphantasien. Männerkörper — zu Psychoanalyse des Weissen Terrors. Frankfurt am Main, 1978, а также перевод дневника Витгенштейна — Вит-генштейн Л. Тайные дневники 1914—1916 гг. // Логос. 2004. № 3—4. С. 279—322. Проблема умножения авторских повествовательных инстанций в связи с фрагментацией тела автора ставится в недавно защищенной в РГГУ диссертации Н.Я. Григорьевой. Особенно см. раздел «Метаавтор и раздвоение» (Григорьева Н.Я. Концептуализация авторского труда в русской литературе 1910—1930-х гг. Рукопись).
30) Ср.: «В первые годы революции не было быта или бытом была буря» (Там же. С. 234). Книга, о которой пишет здесь Шкловский, была посвящена Сервантесу, Стерну и Розанову, т.е. авторам, по преимуществу подрывающим порядок дискурса. Таким образом, аналитический метадискурс Шкловского, направленный на выделение и описание их подрывных стратегий, оказывается способом восстановления дискурсивного контроля над текстами, внутренне проблематизирующими традиционные категории и инстанции повествования. Характерно, что эта книга так и не была закончена, и отдельные главы из нее публиковались в дальнейшем с подзаголовком «Из книги “Сюжет как явление стиля”».
31) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 156.
32) Однако это насилие может не только связываться с творческим импульсом, но и являться уступкой давлению «соседних исторических рядов», — тогда разрывание книги на части разрывает и связь между книгой и текстом. «Мой товарищ [Эйхенбаум] топил библиотекой. Но это страшная работа. Нужно разрывать книги на страницы и топить комочками» (Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 229).
33) Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза. М.; Берлин, 1923.
34) Ср.: «Я сейчас растерян, потому что этот асфальт, натертый шинами автомобилей, эти световые рекламы и женщины, хорошо одетые, — все это изменяет меня. Я здесь не такой, какой был, и кажется, я здесь нехороший (выделено мной. — И.К.)» (Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви // Шкловский В.Б. Жили-были. М., 1964. С. 131), — «признается» Шкловский в своем «Вступительном письме», которое было написано уже после возвращения в Россию (т.е. после того, как просьба о возвращении из эмиграции — финальное письмо романа «Заявление во ВЦИК» — увенчалась перлокутивным успехом) специально для второго, уже советского, издания (см.: Шкловский В.Б. ZOO. Письма не о любви, или Третья Элоиза. Пг., 1924). Совершая процедуру сравне-ния и как бы воспроизводя в 1924 году свою внутреннюю речь, относящуюся к 1923-му, Шкловский фиксирует испытанную на себе, деформирующую работу истории, но все же возвышается над ней в акте метарефлексии. Однако дополнительная историческая ирония возникает при столкновении референтного поля романа, относящегося к «эмигрантским» 1922—1923 годам, и прагматического контекста «возвращенческого» 1924-го (которым и мотивировано, собственно, пристегивание дополнительного «объяснительного письма»): пространственный (и временной в данном случае) оператор «здесь» проваливается в зазор между двумя биографическими ситуациями, позволяя прочитывать себя как указание и на время рассказа, и на время рассказывания.
35) Об этом см.: Калинин И. История как остранение теории (метафикция В.Б. Шкловского и антиутопия Е.И. Замятина) // Русская теория 1920—1930-х гг. Материалы Десятых Лотмановских чтений. М.: РГГУ, 2004. С. 191—212.
36) Шкловский В.Б. ZOO... // Шкловский В.Б. «Еще ничего не кончилось…». М., 2002. С. 298. (Это издание воспроизводит именно первую, берлинскую, публикацию.) Похожее уподобление тела героя и текста, от которого, возможно, зависит его жизнь, совершает Набоков в «Приглашении на казнь» (1935—1936), причем именно фрагментация и разъятие на части становятся основанием для такого уподобления. Ср.: «Он [Цинциннат] встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы в угол». В одной из следующих сцен уже сам Цинциннат разрывает на мелкие «завивающиеся клочки» конверт, в котором, возможно, находилось его помилование. Однако, в отличие от случая Шкловского, вместе с разрушением «конструкции» утрачивается и смысл текста: «Цинциннат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято» (Набоков В.В. Приглашение на казнь // Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. Т. 4. СПб., 2000. С. 61, 63).
37) Ср. с программным призывом к адресату эстетической коммуникации разрушить целостность их собственных текстов: «прочитав — разорви!» (Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое // Манифесты и программы русских футуристов / Hrsg. von V. Markov [Slavistische Propyläen. Bd. 27] München, 1967. S. 57).
38) Так, например, Барбара Стеффорд пишет об использовании соматических метафор как об одном из основных способов визуализации знания в эпоху Просвещения: посредством телесных образов, и в особенности посредством образов телесного расчленения, оказывается возможным соединить видимые поверхности с невидимыми глубинами и таким образом обрести познание (Stafford B.V. Introduction: The Visualisation of Know-ledge // Body Criticism: Imaging the Unseen in the Enlightenment Art and Medicine. Cambridge, Mass., 1999. P. 1—9). О политических, идеологических и утопических импликациях подобных «метафор познания» в русской культуре см.: Матич О. «Рассечение трупов» и «срывание покровов» как культурные метафоры // НЛО. 1994. № 6. С. 139—150; Он же. Постскриптум о Великом Анатоме: Петр Первый и культурная метафора рассечения трупов // НЛО. 1995. № 11. С. 180—185.
39) Письмо от 20.09.1905 г. См.: Письма Б.М. Эйхенбаума к родителям (1905—1911) // Revue des études slaves. 1985. T. 57. Fasc. 1. P. 12.
40) Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой (1847—1855). Пг.; Берлин: Изд.-во З.И. Гржебина, 1922. С. 8.
41) Эйхенбаум в этом пассаже, да и во всей книге в целом, выступает как историк литературы, предметом которого являются уже сменившиеся литературные эпохи. Применительно к критическому взгляду на литературную современность аналогом исторической дистанции, отделяющей историка от его предмета, выступает механизм объективации, отчуждающий литературный продукт от его производителя и соответственно устанавливающий такую дистанцию на уровне синхронии.
42) Для Эйхенбаума Толстой стал фигурой внутренней идентификации, значение которой на протяжении его жизни все возрастало несмотря на то, что выводы, к которым Эйхенбаум пришел в своей первой книге, были позднее им полностью пересмотрены. О роли изучения Толстого в биографии Эйхенбаума см. фрагменты его дневника в: Эйхенбаум Б.М. Работа над Толстым. Из дневников 1926—1959 гг. // Контекст 1981. Литературно-критические исследования. М., 1982. С. 263—302. Шкловский также с самого начала использует фигуру Толстого для создания символической генеалогии, находя у него близкое для себя понимание бессознательного автоматизма. Он воспроизводит фрагмент дневника Толстого: «...если целая жизнь многих пройдет бессознательно, то эта жизнь как бы не была», делая эту фразу аргументом в пользу собственной теории остранения, а Толстого — формалистом avant la lettre (цит. по: Шкловский В.Б. Искусство как прием // Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983. C. 14).
43) Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. С. 20. Эйхенбаум даже подчеркивает некую самоценность для Толстого та-кой аналитической позиции и «методологии наблюдения» и пишет о свойственном Толстому «…любовании самым актом расчленения сложных проблем на логически ясные, простые схемы» (с. 17—18).
44) Там же. С. 119. Эти строки пишутся также во время Гражданской войны в вымерзшей питерской квартире в окружении умирающей от голода и холода семьи. Ср.: «Он [Эйхенбаум] чуть не погиб той зимой (1920—1921), но доктор, который пришел к нему в день, когда вся семья была больна, велел им поселиться в крохотной комнате. Они надышали там и выжили. В этой комнате Борис Эйхенбаум написал книгу “Молодой Толстой”» (Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 229).
45) Эйхенбаум опускает здесь фрагмент, устанавливающий непосредственную связь между хирургическим вторжением в тело и его фрагментацией: «…увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1958. С. 95). Здесь же Толстой называет хирургическую практику «отвратительным, но благодетельным делом апмутации».
46) Цит. по: Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. С. 119.
47) Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996. С. 47—48.
48) Ср.: «Толпа — это вуаль, через которую привычная городская среда подмигивает фланеру как фантасмагория» (Беньямин В. Париж, столица девятнадцатого столетия // Там же. С. 154).
49) В этом последнем случае описание сцен оперативного вмешательства не только имеет отношение к демонстрации художественного метода Толстого, но и служит автометаописанием аналитического метода самих формалистов, противопоставляющим модель хирургической практики знахарству символистской критики, исходящей из представлений о целостности произведения и об авторитете творца.
50) Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. С. 129.
51) Моделью такого динамичного и проникающего в глубину зрения выступал для формалистов кинематограф, монокулярность которого обеспечивала доступ к глубине, заставляя глаз компенсировать отсутствие привычного бинокулярного объема за счет рассматривания предмета с разных сторон, за счет движения, противопоставленного мгновенному объемному схватыванию предмета. Шкловский не раз возвращался к этой специфике кинематографического зрения, в том числе в размышлениях о немом кино в одной из своих поздних работ: «Человек, смотрящий одним глазом, видит глубину, потому что его глаз ощупывает предмет, осматривает его. Процесс зрения есть процесс оглядывания, зрительного движения» (Шкловский В.Б. Конфликт и его развитие в кинопроизведении (1962 г.) // Шкловский В.Б. За 60 лет. Работы о кино. М., 1985. С. 482).
52) Там же. С. 135.
53) Цит. по: Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. С. 133.
54) Шкловский В.Б. Третья фабрика. С. 358. Для Шкловского в принципе было характерно сближение воли и хирургической компетенции, ср. его описание одного из героев «Сентиментального путешествия»: «Этот чело-век имел волю, по всей вероятности, потому, что он был хирург» (Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 219). Характерно, что к той же хирургической метафоре, которую использует автор идеи перманентного остранения, прибегает и теоретик перманентной революции — революция и литература приобретают один и тот же концептуальный троп. Так, в 1924 году, возвращаясь к теме террора и революционного насилия, Лев Троцкий писал о том, что революция использует «методы жесточайшей хирургии» (Троцкий Л. Революция и литература. М., 1991. С. 101).
55) Groys B. «Unter Verdacht». Eine Phénomenologie der Medien. München: Carl Hanser Verlag, 2000. S. 78.
56) Фуко М. Ницше, генеалогия, история [/ Пер. с фр.] //Философия эпохи постмодерна. Минск,1996. С. 84.
57) Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. С. 138—139.
58) Кстати, Тынянов, работая в 1919 году над своей теорией пародии, внимательно штудирует эту работу Бергсона. Об этом см.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 538—539. Наряду с работами, в которых вскрываются бергсонианские претексты отдельных формалистских положений (Pomorska K. Russian Formalism and Its Poetic Ambiance. Paris: The Hague, 1968. P. 56; Ханзен-Лёве О. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001. С. 213; Ямпольский М.Б. «Смысловая вещь» в кинотеории ОПОЯЗа // Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 109), существуют работы, непосредственно посвященные обнаружению связи между формальной теорией и философией Бергсона (Curtis J. Bergson and Russian Formalism // Comparative Literature. Vol. 28. № 2. Eugene, Oregon, 1976. Р. 109—121; Левченко Я. О некоторых философских референциях русского формализма // Русская теория 1920—1930-х годов. С. 168—190).
59) Эта идея «происхождения» смеха была позднее подхвачена и трансформирована Хельмутом Плесснером в его книге «Смеяться и плакать» («Lachen und Weinen», 1941), в которой, наоборот, сам смех интерпретируется как причина потери телом контроля над самим собой. Таким образом, смех рассматривается как нечто, что одновременно и является реакцией на распад телесной конструкции (и соответственно на ее выявление), и само вызывает такой распад — смеющийся, даже если он показывает пальцем на неловко поскользнувшегося на улице человека, сам лопается и рассыпается от смеха.
60) Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992. С. 42, 37.
61) Эйхенбаум, вполне последовательно следуя за мыслью Бергсона, развиваемой в работе о смехе, непосредственно эксплицирует связь между смехом и эстетической реакцией. «Можно утверждать, что эмоция смеха как “формальная”, не связанная с душевной жизнью и с ее индивидуальными оттенками, а свидетельствующая лишь о реакции на впечатления извне, специфична для эстетического восприятия» (Эйхенбаум Б.М. Размышления об искусстве. 1: Искусство и эмоция // Жизнь искусства. 1924. № 11 (985). (11 марта). С. 8).
62) Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара. Горький, 1987. С. 374—375.
63) Kujundzˇic´D. The Returns of History. Russian Nietzscheans after Modernity. Albany: State University of New York Press, 1997. P. 33.
64) Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара. С. 376.
65) «Известка посыпалась ему на голову. Балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбаз ударил его кривой саблей в грудь, раз и два. Он услышал еще, как завизжал Рустам-бек, которого резали» — и далее: «Вазир-Мухтар продолжал существовать. Кебабчи из Шимрунского квартала выбил ему передние зубы, кто-то ударил молотком в очки, и одно стекло вдавилось в глаз. Кебабчи воткнул голову в шест, она была много легче его корзины с пирожками, и он тряс древком. Кяфир был виноват в войнах, голоде, притеснениях старшин, неурожае. Он плыл теперь по улицам и смеялся с шеста выбитыми зубами. Мальчики целились в него камешками и попадали» (Тынянов Ю.Н. Смерть Вазир-Мухтара. С. 344, 346).
66) Benjamin W. The Origin of German Tragic Drama / Tr. J. Os-born. London: Verso, 1977. P. 217.
67) Собственно смерть у Беньямина оказывается не только финальным означаемым в цепочке аллегорических фрагментаций (о чем пишет Марк Липовецкий: Липовецкий М. Аллегории письма: «Случаи» Хармса (1933— 1939) // НЛО. 2003. № 63. С. 130), но и неким смысловым ядром, ответственным за этот процесс фрагментации, пределом травматического столкновения с историей, исключающим возможность линейной символической репрезентации. С точки зрения Беньямина, смерть запускает машину аллегорической репрезентации и одновременно только смерть и поддается аллегоризации. Аллегория, руина и мертвое тело вступают у Беньямина в отношения взаимной необходимости и обусловленности: способ репрезентации, его результат (образ) и объект встраиваются в цепочку, производя друг друга как собственные эффекты и как условия производства этих эффектов. Об этой возникающей у Беньямина сцепке между аллегорией, фрагментацией, руиной и мертвым телом, разыгрывающими свою историческую драму, пишет Бюси-Глюксман: «Бесконечная фрагментация аллегории представляет собой застывший портрет ужаса, разыгрывает предельное различие, соответствующее миру руин, и репрезентирует мертвое и страдающее тело» (Buci-Glucksmann C. Baroque Reason: The Aesthetics of Modernity / Transl. by P. Camiller. L.: Thousand Oaks; Ca-lifornia: Sage Publications, 1994. P. 69).
68) См.: Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории па-родии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 198—226.
69) Фрагмент незаконченной работы Тынянова о пародии (1919). См.: Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 538.
70) Ямпольский М. Демон и лабиринт. М., 1996. С. 233.
71) Цит. по: Buck-Morss S. Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1995. Р. 165.
72) Ср.: «Человеческое тело не могло быть исключением из закона, который требовал расчленения органического на куски во имя того, чтобы извлечь из этих осколков подлинное, зафиксированное и письменное значение» (Benjamin W. The Origin of German Tragic Drama. London; New York: Verso, 1977. Р. 216—217).
73) Характерно, что, обретая стабильность, новая власть стремится «подморозить» историю и монополизировать право на человеческое тело и на его расчленение: тело и здоровье трудящегося принадлежат партии, и только она может санкционировать те или иные повреждения. Ср.: «Даже на рабочем месте каждый словно окружен пестрыми плакатами, заклинающими аварии. На одном из них изображено, как рука рабочего попадает между спицами приводного колеса, на другом — как пьяный рабочий вызывает короткое замыкание и взрыв, на третьем — как колено рабочего попадает между движущимися частями машины» (Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 198).
74) Шкловский В.Б. Петербург в блокаде // Ход коня. М.; Берлин, 1923. С. 24.
75) Такую же барочную референцию в связи с проблематикой руины, истории, памяти и забвения можно найти и у Маяковского: «Круговые руины истории, // Забыли Растрелли вы?» («Радоваться рано»).
76) Начиная с середины 1920-х этот исторический драйв начинает исчезать, но сменяется не меланхолией, а некой семиотической депрессией, апатией (особенно в случае Шкловского, посвятившего описанию своей очередной внутренней деформации последнюю часть автобиографической трилогии «Третья фабрика», 1926 г.), сквозь которую декомпозиция текстов и тел видится уже не как семиозис, но как энтропия: фрагментация перестает обнажать конструкцию и порождать смысловые эффекты, теперь она производит лишенные сюжета сборники цитат, эклектичные коллажи и павильонные декорации. Хотя и в этой ситуации смены режима взаимоотношения человека и истории Шкловский через радикализацию давления истории, приобретающего в его описании форму фабричной обработки материала, достигает определенной степени рефлексивной свободы. «Мясорубка не умеет меня молоть», — настаивает Шкловский, в очередной раз используя метафору как способ ускользания от невыносимого давления истории (Шкловский В.Б. Третья фабрика. С. 359). О том, как переживалась формалистами смена исторической доминанты, и о том, как отреагировали на эту смену Шкловский, Эйхенбаум и Тынянов, см.: Калинин И.А. О «полноте материала» и «нехватке мотивировки»: русские формалисты между «прошлым» и «современностью» // Тыняновский сборник. Вып. 11 (в печати). В связи с изменением ощущения времени и истории изменяется и отношение к кинематографу (и к определяющему его приему монтажа) как к средству репрезентации, моделирующему новое восприятие реальности. Первоначально перенесение элементов из одного контекста в другой, их монтаж и семантическое столкновение манифестировались формалистами как основной динамический принцип искусства, позволяющий ему обновлять стершееся восприятие реальности, поэтому кинематограф, сама технологическая природа которого обнажала его «кинематографичность» и «сделанность» производимых им эффектов реальности, выдвигался в авангард но-вого искусства и новой исторической эпохи. В середине 1920-х годов кинематографическая техника, расчлен-ющая и руинизирующая свой материал, начинает восприниматься Шкловским как рутинная практика: «Служу на Третьей Госкинофабрике и переделываю ленты. Вся голова завалена обрывками лент. Как корзина в монтажной. Случайная жизнь» (Шкловский В.Б. Третья фабрика. С. 373). У Беньямина возникает похожий ход мысли (естественно, при гораздо большей степени отстраненности), когда он пишет о диктуемом кинематографом новом монтажном характере восприятия, при котором наиболее естественным кажется наиболее искусственное, наиболее свободным от технического опосредования — наиболее изощренное в техническом исполнении. Фрагментация реальности, производимая кинематографом («Картина художника целостна, картина оператора расчленена на множество фрагментов, которые затем объединяются по новому закону» (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 48)), в рассуждениях Беньямина также выступает как причина, ответственная за утрату аутентичности во-приятия (характерно, что здесь возникает уже знакомая нам хирургическая метафора: «Дерзания кинооператора и вправду сравнимы с дерзаниями оперирующего хирурга» (Там же)). И все же если для Беньямина основным сдвигом, выводящим фотографию и прежде всего кинематограф за пределы традиционной эстетики и нарушающим традиционную диспозицию между искусством и массами, является конститутивная для этих видов искусства готовность к репродукции, то для Шкловского этот момент кинематографического производства реальности оставался в тени осуществляемой кинематографом декоративной подмены и вторичности производимой им продукции, избыточность которой призвана покрыть зияния в павильонных декорациях и плохой игре актеров: «Декорации, построенные из бревен. Тысячу раз оговоренный сценарий. Декорации кусками. Тяжело сделано то, что увидит аппарат. И дырки кругом. “Приготовились, — кричит режиссер, — начали”. Две минуты съемки. Операторы, загорелые от света юпитеров. Операторы крутят ручки, немного присев. И аппарат, и оператор имеют та-кой вид, что они сейчас прыгнут на актера (преодолевая естественную дистанцию между художником и объектом, добавил бы Беньямин. — И.К.). Если хор ламп не даст дребезжащих теней. Если актеры сработают. Получится лента и много обрезков в обшитых полотном корзи-ах монтажной. Эдди Шуб склеит. Если и не выйдет. Смонтирует. Так даже у американцев. У них пленки больше, и Мэри Пикфорд тоже лежит в корзинке при очистке пленки» (Шкловский В.Б. Третья фабрика. С. 394). Многократная опосредованность кинематографической репрезентации — декорация, искусственный свет, перспектива трансфокации, монтаж отснятого материала, отправляющий фрагменты отснятой «реальности» в корзину, — кроме разрушения аутентичности порождает еще один, связанный с этой утратой, эффект — редукцию человеческого измерения. Реквизит и актер становятся соразмерны в пространстве кадра — об этом пишет и Беньямин, ссылаясь на Арнхейма (Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 39—40). Причем Арнхейм выделяет (в 1932 году) эту перспективную, с его точки зрения, тенденцию к минимализации актерской игры и к использованию актера в качестве предмета реквизита как тенден-цию, заявившую о себе прежде всего в советском кинематографе (ср.: «…со временем человек станет предметом реквизита и от него будет требоваться примерно то же, что от собаки или чайника, — внешний вид и присутствие» (Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960. С. 113)). Арнхейм почти цитирует Шкловского, который шестью годами ранее пишет о «литературном быте» Третьей госкинофабрики: «Актеры сидят в коридоре. Растят бороды для съемки. Пьют чай. <…> Чай здесь сублимирует время» (Третья фабрика. С. 393). Шкловский выражает общее ощущение тотальной неподлинности, на которой строится великая иллюзия кинематографа. Осознание природы этой иллюзии оборачивается для него крушением авангардного мифа о власти художника подвергать реальность монтажным деформациям: «Хотел бы иначе снять жизнь, чтобы монтаж ее изменился. Я люблю длинные куски жизни. Дайте и актерам играть. Меньше чаю, меньше монтажа» (Там же. С. 394). Кинематограф заменяет индивидуальность оптической технологией и техникой монтажа, отношение к которой меняется у Шкловского в тот момент, когда владение ею переходит из рук художника к политической власти. Вскрывая связь между изменением репродуктивной техники и политикой, Беньямин писал: «Радио и кино изменяют деятельность не только профессионального актера, но точно так же и того, кто, как носитель власти, представляет в передачах и фильмах самого себя. <…> Цель [этих изменений] — порождение контролируемых действий, более того, действий, которым можно было бы подражать в определенных социальных условиях. Возникает новый отбор, отбор перед аппаратурой, и победителями из него выходят кинозвезда и диктатор» (Бень-ямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 42). То, что в 1935 году Беньямин фиксировал как общие для современности социальные и эстетические процессы, Шкловский переживал как личную судьбу.
Но в описываемый нами период конца 1910-х — первой половины 1920-х годов кинематографическая смонтированность реальности, вносящая новую интенсивность в историю, еще осознавалась формалистами как прием, толкающий время вперед.
77) Эту же модель ремонта формалисты распространяли на историю литературы. Ср.: «Всякая литературная преемственность — есть прежде всего борьба, разрушение ста-рого целого и новая стройка старых элементов» (Тын-нов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии). С. 198).
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://russ.ru